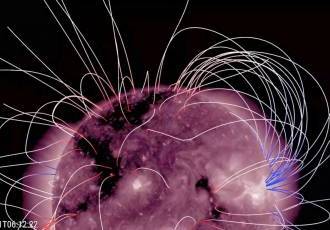В 1880 году Бородин писал своей ученице Луканиной:
«Разумеется, неумолимое время, накладывающее свою тяжелую руку на все, наложило ее и на меня. Борода и усы седеют понемногу; жизненного опыта прибывает, а волос на голове убывает. Правда, я, как человек живой по натуре и рассеянный к тому же, как-то не замечаю в себе перемены. Слава богу, здоров, бодр, деятелен, впечатлителен и вынослив по-прежнему: могу и проплясать целую ночь, и проработать не разгибаясь целые сутки, и не обедать...»
«Впечатлителен и вынослив...» Эти два свойства редко встречаются в одном человеке. Чем впечатлительнее люди, тем сильнее они чувствуют удары, которые наносит им жизнь. И не всегда тонкая душевная организация выдерживает эти удары.
К счастью для Бородина, он был и впечатлителен и вынослив в одно и то же время.
У него навертывались слезы на глаза, когда он слушал хорошую музыку или ему рассказывали что-нибудь волнующее. Без этой отзывчивости, чуткости к людям, к искусству он не был бы самим собой.
Но в то же время он был необыкновенно стойким человеком и умел собой управлять. И эта сила характера помогала ему жить и бороться, не впадая в отчаяние и не делаясь пессимистом, когда судьба посылала ему тяжелые испытания или отнимала у него близких друзей.
В феврале 1880 года умер Николай Николаевич Зинин. Его ученики Бородин и Бутлеров написали о нем статью, которая была напечатана в «Журнале Русского физико-химического общества». В каждой строчке, написанной ими, чувствуется горячая любовь к учителю.
Стоя у еще не зарытой могилы, Бородин думал о том, как много сделал Зинин для русской науки. Завидная доля выпала ему: на его глазах зарождалась, развивалась и протекала научная работа трех поколений созданной им школы. И вот у гроба его собрались не только его дети по науке, но и внуки и даже правнуки. Он дожил до преклонных лет, но не пережил себя как ученый. До последнего года, пока болезнь не приковала его к постели, он работал в лаборатории. До последних дней болезни, в постели, он не переставал читать, следить за успехами науки, понимать и принимать близко к сердцу все, что в ней делалось...
И когда Бородин начал свою надгробную речь, в ней звучала не только скорбь, но и гордость за человека, который сумел так прожить свою жизнь!
«Не к телу усопшего учителя обращаю я речь мою; оно глухо и немо... К вам, собравшимся здесь почтить память покойного, обращаю мое слово. На венке, который несли студенты, вы читаете:
Дедушке русской химии. Но все ли из вас знают, как велики заслуги, упрочившие за покойным это почетное имя? Вспомним же об этих заслугах, прежде чем бросить горсть земли на гроб дорогого учителя».
Но не только о прошлом говорил Бородин. Он говорил о молодых членах многочисленной семьи русских химиков, о тех, кому принадлежит будущее науки.
Он всегда верил в это славное будущее. Но он не мог не видеть и тех преград, которые суровая действительность воздвигала на пути передовых русских ученых.
На опустевшее место Зинина в Академии наук была предложена кандидатура Менделеева. Казалось, кто мог быть достойнее этого, чем великий создатель периодического закона? Но при баллотировке Менделеев не получил необходимых двух третей голосов, потому что реакционеры из «немецкой партии» положили ему черные шары.
Бородин писал Н А. Меншуткину, что вполне разделяет «глубокое негодование на возмутительное отношение Академии наук к нашим крупным ученым» и что присоединяется к протестующим.
То, что произошло при баллотировке в академии, было только одним из многих проявлений реакции, которая все усиливалась в стране.
1 марта 1881 года народовольцами был убит Александр II. Но террором нельзя было изменить строй и свергнуть самодержавие. На место одного Александра сел другой, и реакция стала еще более жестокой.
Правительство беспощадно расправлялось со всеми, кого можно было заподозрить в революционных идеях. Усилились репрессии против студенчества.
Композитор Ипполитов-Иванов в своих воспоминаниях рассказывает, как Бородин выбивался из сил, выручая то одного, то другого арестованного студента, бегая по приемным власть имущих, проявляя большую настойчивость и терпение:
«В одну февральскую ночь во втором часу раздается у Ильинских звонок, появляется Александр Порфирьевич, занесенный снегом и промерзший до последней возможности; оказалось, что он с восьми часов вечера до часу ночи провел на извозчике, разъезжая по учреждениям, разыскивая кого-то из арестованных, и все это делалось без всякой рисовки, а из чистого чувства человеколюбия и отеческого отношения к молодежи. В его академической квартире, непосредственно соединенной с лабораторией, была постоянная толчея. Иногда появлялись студенты с курьезными просьбами одолжить его шинель сходить «в Коломну» (так называлась Коломенская часть*
при устье Фонтанки) навестить больного товарища».
Тяжело отразились эти события и на положении любимого детища Бородина — женских курсов. Власти и прежде с явным недоброжелательством относились к «стриженым девкам», как называл курсисток реакционный публицист Катков. А теперь это отношение выразилось и в административных мерах.
Врачебные женские курсы находились в ведении военного министерства, так же как и Военно-медицинская академия. При новом царе на пост министра был назначен генерал Банковский, вместо считавшегося либералом Милютина.
Как тот щедринский градоправитель, который въехал в город на белом коне, сжег гимназию и «упразднил науки», Ванновский начал свою деятельность с похода против Высших женских курсов.
Считая «неудобным» дальнейшее состояние курсов при военном ведомстве, он недолго думая распорядился прекратить прием новых слушательниц. Тем, которые уже учились, тоже не дали спокойно продолжать занятия. Было «признано необходимым» освободить Николаевский госпиталь от курсов. Попросту говоря, курсам предложено было убираться на все четыре стороны. И это несмотря на то, что они, по признанию того же Ванновского, уже дали стране 150 женщин-врачей, которые добросовестно делали свое дело и в мирное время и на войне.
Началась длительная агония курсов. Историю их болезни и умирания можно проследить по письмам Бородина.
Он пишет в июне 1882 года Н. В. Стасовой: «Мы все еще в том же неопределенном переходном положении и не знаем сами, что с нами будет...»
«Мы» — это женские курсы.
В августе того же года он пишет жене, что собирает деньги, «чтобы выручить наши курсы».
Дальше идет длинный ряд писем к разным лицам и учреждениям, где Бородин благодарит за помощь «нашим бедным курсам» всех тех, кто принимает близко к сердцу судьбу «несчастного учреждения».
Он пишет: «Курсам приходится переживать, может быть» самую трудную пору своего существования. С основания их минуло всего десять лет, тем не менее они имеют уже свое прошлое, и хорошее прошлое, дающее им право на уважение и симпатии лучшей части русского общества. Честь же и слава той части общества, которая без всякого официального призыва спешит на помощь юному учреждению и несет свою лепту, чтобы выручить из беды погибающие курсы».
Бородин ведет переговоры о передаче курсов из военного ведомства в какое-либо другое. Но их, как он сам писал, «перевести было некуда; никто не брал из-за недостатка средств».
Как с осиротевшим ребенком, возился Бородин с курсами, стараясь найти для них приемных родителей. Но желающих взять «ребенка» на воспитание не было. Появилась было надежда, что его усыновит городская дума, но дело снова затормозилось. Правительственная комиссия не торопилась с решением.
«Мы как в лесу,— писал Бородин химику Алексееву в 1883 году,— ничего не знаем, ничего и ни от кого не можем добиться... Положение это крайне томительное и отзывается отвратительно на всем, что касается курсов».
Год шел за годом, курсы хирели, но Бородин не переставал за них бороться.
А. П. Дианин пишет:
«Когда для Александра Порфирьевича стало ясно до очевидности, что курсы должны погибнуть, нужно было видеть этого необыкновенного человека, с каким удвоенным вниманием, даже нежностью он стал относиться к самым ничтожным мелочам, касающимся курсов. Так только мать ухаживает за любимым больным ребенком, для спасения которого истощены все средства и которого медики давно уже приговорили к смерти. Когда же пришлось ломать лабораторию и перевозить из нее вещи в академию, А. П. не выдержал и просто расплакался».
Какая это трагедия для ученого — ломать лабораторию, которая создана его же руками!..
Тут действительно приходилось ломать. Ведь в лабораториях и вытяжные шкафы и многие другие установки и приборы составляют одно целое со стенами, с полом.
Этот разгром был для Бородина наглядным выражением того неуважения, с которым правители России относились к русской науке.
И все-таки Бородин не терял надежды, что придет время, когда его любимые курсы воскреснут. Часто в разговоре с друзьями он с гордостью перечислял имена своих бывших слушательниц, которые всей своей работой уже доказали, что женщина может быть и прекрасным врачом, и серьезным ученым.
Есть русская поговорка: «Пришла беда — отворяй ворота».
Так было в те годы и с Бородиным. Одна беда шла за другой. Еще тогда, когда он читал лекции курсисткам в Николаевском госпитале, в одной из палат в том же здании умирал Мусоргский.
Бородину и Стасову с трудом удалось его устроить в госпиталь,— ведь он давно уже не был военным.
Помог молодой врач Бертенсон. Бывшего гвардейского офицера положили в госпиталь как «вольнонаемного денщика ординатора Бертенсона».
Друзья надеялись на выздоровление Мусоргского и строили планы, как они отправят его в Крым. Много часов проводили они у его постели. Приходили и сестры Пур-гольд — в замужестве Римская-Корсакова и Молас,— с которыми его связывала старая дружба.
В эти последние дни жизни Мусоргского Репин тут же в палате написал его портрет. Всех поразило, как верно передал художник не только его внешний облик, но и могучий, неукротимый характер.
Сидя в госпитале у постели умирающего друга, Бородин, наверное, не раз вспоминал свою первую встречу с ним — тоже в больнице.
Мусоргский был тогда начинающим композитором. Все у него было впереди. И вот так рано обрывается эта жизнь. Какой огромной высоты достиг он в «Борисе Годунове» и «Хованщине». С потрясающей силой выражены там и трагедия отдельных людей, и трагедия народа. И как много еще он мог бы сделать!..
16 марта 1881 года Мусоргский умер.
И снова Бородину пришлось идти по улицам Петербурга за похоронными дрогами.
С Зининым его связывала любовь к химии, с Мусоргским— любовь к музыке. Зинин был учителем, Мусоргский — боевым товарищем.
И тот и другой словно требовали, чтобы Бородин оставался на посту, не оставлял дела, которому они отдали все свои силы.
Тяжела была рана, которую нанесла Бородину смерть Мусоргского.
Ипполитов-Иванов рассказывает:
«В конце 1881 г. театральная дирекция возобновила «Бориса». М. А. Балакирев приобрел билет и пригласил Римских, Бородина, Ильинских, Стасовых и меня. С непередаваемым чувством грусти собирались мы в ложе. В течение спектакля я несколько раз наблюдал, как А. П. Бородин смахивал набегавшую слезу; а сцену смерти Бориса от волнения он не мог слушать и вышел из ложи. Настроение было тяжелое, и все чувствовали глубокую жизненную драму великого русского музыканта».
Все эти тяжелые переживания бросили словно тень на произведения, которые писал в те годы Бородин. В них звучит сдержанная, но глубокая скорбь.
Таков романс на слова Пушкина «Для берегов отчизны дальной».
Стихи Пушкина так прекрасны, что для них нелегко было найти музыкальное выражение. Бородину это удалось. По необыкновенной простоте, мелодичности, глубине и искренности чувства этот романс напоминает лучшие романсы Глинки.
Тогда же Бородин решился сделать то, что он так долго откладывал: написать арию Игоря.
И здесь звучит тема скорби и страдания:
Ни сна, ни отдыха измученной душе! Мне ночь не шлет отрадного забвенья. Все прошлое я вновь переживаю Один, в тиши ночей... |
Но скорбь, нарастая, переходит в гнев, в жажду борьбы и победы:
Ужели день за днем Влачить в плену бесплодно И знать, что враг терзает Русь... |
Игорь был близок по духу самому Бородину! Недаром Глазунов, характеризуя великих русских композиторов, говорил: «Я сравнил бы Бородина с домосковским князем-витязем».
И Бородин тоже, как и его герой, чувствовал себя в плену.
Как часто в своей научной, музыкальной, общественной работе он натыкался на стену чиновничьей косности и великосветского пренебрежения к тому, чем жила лучшая часть русского общества! Об эту стену разбился Мусоргский. Балакирев пытался пробить ее — и остался на всю жизнь искалеченным.
Но Бородин не терял оптимизма. Он обращал свои взоры к будущему, к той молодежи, которая была живым воплощением этого будущего.
Вокруг, около старых дубов, поднималась молодая поросль: юные химики, юные музыканты. Чего не доделали старики, сделают они.
С какой любовью писал Бородин о семнадцатилетнем Глазунове, которого он ласково называл «даровитым мальчонком».
В произведениях этого мальчика слышалась совсем не детская мощь. Отрадно было Бородину видеть в нем не подражателя, а продолжателя.
Для всего кружка появление Глазунова было большой радостью. Стасов гордился необыкновенными успехами этого «юного Самсона», «Орла Константиновича».
Никто не мог заменить ушедшего Мусоргского, но отрадно было видеть приход нового, свежего пополнения.
Римский-Корсаков рассказывает, как в Бесплатной школе была исполнена под управлением Балакирева Первая симфония Глазунова и как была поражена публика, когда перед ней, на вызовы, предстал автор в гимназической форме.
Был и другой молодой композитор, на которого старшее поколение смотрело с надеждой и который еще раньше, чем Глазунов, примкнул к «Могучей кучке».
Анатолия Лядова Владимир Васильевич любил с такой же нежностью, как своего «Глазуна». Плохо было только то, что «Лядушка» ленился и писал не так много, как хотелось нетерпеливому Стасову, который говорил ему: «Да вы, точно морж, который зажмурил свои глазки и дремлет на солнышке на своей полярной льдине».
Кроме Глазунова и Лядова, в музыкальных собраниях участвовали Аренский и Ипполитов-Иванов — ученики Римского-Корсакова по консерватории.
Молодые члены кружка относились к старшим с чувством преклонения, а Балакирева немножко побаивались.
В воспоминаниях Глазунова рассказывается об одном собрании у Балакирева, на котором присутствовали и молодые и старые композиторы, в том числе и Чайковский.
В кружке очень любили «Бурю» Чайковского, программа которой была составлена Стасовым, ценили «Ромео и Джульетту», «Франческу» и многие другие его вещи.
Он в свою очередь восхищался мастерством Римского-Корсакова, высоко ставил первую часть Богатырской симфонии и хор поселян из «Игоря» Бородина.
К назначенному часу, рассказывает Глазунов, все собрались у Балакирева. С особенным волнением ждали прихода Чайковского молодые композиторы. «Чайковский соединением простоты с достоинством и утонченной, чисто европейской выдержкой в обращении произвел на большинство из присутствовавших самое благоприятное впечатление. Мы как-то свободно вздохнули. Петр Ильич влил своим разговором свежую струю в условия нашей несколько запыленной атмосферы и непринужденно заговорил о предметах, о которых мы помалкивали отчасти из-за чувства преклонения, связанного с каким-то страхом перед авторитетом Балакирева и других членов кружка».
Балакиревский кружок уже не был прежним объединяющим центром, магнитом, который держал всех вместе. И вот образовался новый центр музыкальной жизни.
Каждую пятницу у Митрофана Петровича Беляева, страстного любителя музыки, устраивались квартетные вечера. Эти пятницы начали посещать Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов.
С появлением новых участников обновился репертуар: стали исполнять не только квартеты Бетховена, Гайдна, Моцарта, но и современные русские. После ужина Глазунов или кто-нибудь другой садился за рояль и играл свою новую вещь, которая тут же «вспрыскивалась» шампанским.
Но дело не ограничивалось этими встречами в домашней обстановке. Беляев был богатым человеком и, подобно Третьякову, тратил немало денег на искусство — только не на картины, а на музыку. Чтобы еще раз послушать Первую симфонию Глазунова и его только что законченную сюиту, Беляев снял большой зал и устроил в нем оркестровую репетицию. Репетиция прошла прекрасно и послужила началом «Общедоступным русским симфоническим концертам», которые Беляев организовал со следующего же сезона.
Чтобы напечатать произведения все того же Глазунова, которыми Беляев не уставал восхищаться, он создал нотное издательство. Там потом издавались не только Глазунов, но и Римский-Корсаков, и Бородин, и другие русские композиторы.
Так возник новый, «беляевский кружок», который немало сделал для русской музыки.
В первую же программу симфонического концерта Беляева были включены Вторая симфония Бородина и посвященная Бородину симфоническая поэма Глазунова «Стенька Разин».
«Весь концерт,— писал Бородин,— очень похож на концерт Бесплатной школы: публика та же, восторженный прием, вызовы авторов и — публики мало».
Вскоре Беляев обратился к Бородину с предложением, которое могло сильно подвинуть вперед работу над «Игорем».
Бородин писал жене:
«Ко мне нагрянул М. П. Беляев, который основал издательскую фирму в Лейпциге и выпросил у меня право издания Игоря; а издает он прелестно! Он сам предложил мне 3000 р.— цена у нас неслыханная за оперу! После смерти Даргомыжского «Каменного гостя» наследники продали за 3000 р.—так и то руками разводили да ахали все! Все сочинения посмертные Мусоргского — Хованщину, Сорочинскую ярмарку, хоры и отдельные пьесы — все Бессель вместе купил за 600 р.— которых и то не выплатил. Снегурочка продана за 1500 р.— которые Бессель тоже не выплатил все. И это очень большая цена. Но при этом Бессель не печатает партитуры,
а Беляев напечатает партитуру на трех языках — русском, немецком и французском, клавираусцуг и четырехручное переложение! Ввиду могущего мне предстоять расхода на переводы текста Беляев сверх 3000 р. накинул еще 500 р.; следовательно— все за 3500 р. Это недурно!»
А как раз накануне Бородин писал Екатерине Сергеевне о том, как хотелось бы ему пожить на свободе, развязавшись с казенной службой, которая отнимает столько сил и времени:
«Да, трудное дело! Кормиться надобно; пенсии не хватит на всех и вся, а музыкой хлеба не добудешь».
Нелегко доставался Бородину этот «хлеб», которым он так щедро делился со всеми, кто окружал его. «Около меня такая непроходимая бедность»,— говорил он; и ему тяжела была мысль, что он не всегда в состоянии выручить тех, кто в этом нуждается.
И он сам, и его домашние должны были ограничивать себя даже в необходимом. Екатерина Сергеевна отказывала себе в том, чтобы лишний раз поехать на извозчике, хотя ей было трудно ходить пешком.
И вот теперь появилась надежда, что на какое-то время станет немного легче.
А главное, предложение Беляева было еще одним толчком извне, который нужен был для того, чтобы Бородин закончил наконец оперу.
Как-то в день рождения Л. И. Шестаковой он подарил ей свой портрет с надписью:
«Дорогой всему нашему музыкальному кружку, горячо любимой и уважаемой Людмиле Ивановне Шестаковой, на память от искренне ей преданного автора неоканчиваемой оперы «Князь Игорь».
А товарищи жаждали окончания оперы.
Римский-Корсаков приходил к Бородину и со слезами говорил, что дело русской музыки погибает и что «Игоря» необходимо закончить во что бы то ни стало.
— Вы, Александр Порфирьевич, занимаетесь пустяками, которые в разных благотворительных обществах может сделать любое лицо, а окончить «Игоря» можете только вы один.
Такое горячее отношение не могло не тронуть Александра Порфирьевича, и он обещал заняться «Игорем» летом.