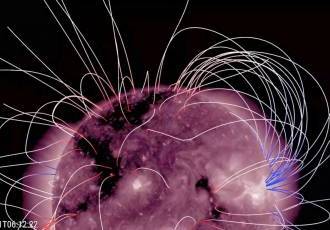Есть в письмах Бородина тема, которая чем дальше, тем чаще повторяется в разных вариациях, становясь в конце концов как бы лейтмотивом жизни. Эта тема — неумолимый и неуклонный бег времени:
«А время-то бежит со скоростью курьерского поезда...»
«Просто ума не приложу: куда девается время? Черт знает что такое! Не успеешь опомниться — глянь: новая неделя начинается. Куда девалась прошедшая неделя, понять не можешь, а между тем она канула в вечность. Даже жутко подчас становится».
«Не успеешь оглянуться — и половина года уже прошла».
«Ты не поверишь, как летит время в этом водовороте, в этой бесконечной толчее жизни; дни мелькают за днями, точно телеграфные столбы мимо поезда на железной дороге, который несется на всех парах. Иногда, право, становится даже страшно, когда подумаешь, как бежит время, куда бежит и ради чего бежит».
И эта же тема слышится в музыкальных произведениях Бородина восьмидесятых годов.
Вот Второй струнный квартет, написанный в 1881—1882 годах.
В нем тема беспощадного бега времени сочетается с другой темой, которую можно было бы выразить словами: «Как прекрасна, как полна очарования эта убегающая жизнь!»
В первой части — в аллегро — звучит то задумчивая русская песня, то страстная и томная восточная пляска.
В скерцо перед слушателями проходит изменчивый и причудливый карнавал. Кружит голову плавный, качающийся ритм вальса.
Третья часть — это ноктюрн. Здесь тема красоты жизни выражена особенно ярко. Музыка переносит нас куда-то на юг, где теплой, благоуханной ночью душа переполнена ощущением счастья. Но счастье, о котором поет виолончель, давно прошло. Эта ночь была когда-то и не повторится больше.
В финале все отчетливее слышится другая тема — неустанный и торопливый стук колес. Это само время бежит «со скоростью курьерского поезда». И дни мелькают за днями, словно телеграфные столбы.
Напрасно силятся скрипки удержать своими стонами этот бег, вернуть прошлое. Оно невозвратимо. И все-таки как прекрасна жизнь!..
Еще явственнее бег времени в скерцо, которое написано в 1885 году.
Настойчиво и торопливо несется жизнь. На миг — раздумье, какое-то светлое воспоминание или, быть может, надежда. И опять быстрая скачка —все вперед и вперед!..
Е. Г. Дианина (та, которую когда-то называли Лизуткой) вспоминала потом, что Александр Порфирьевич любил наигрывать на виолончели певучую тему из ноктюрна Второго квартета. Он так погружался тогда в мечтательное настроение, что почти не замечал, что происходит вокруг.
О чем он думал тогда?..
Быть может, он вспоминал о первых днях своей любви. Ведь не случайно квартет посвящен Екатерине Сергеевне.
Он никогда не переставал ее любить и жалеть. Но с особенной силой он почувствовал, насколько она ему дорога, когда в июне 1886 года ему телеграммой сообщили, что она при смерти.
Всю ночь под стук колес Александр Порфирьевич не мог заснуть ни на минуту. Он не знал, что его ждет в Москве, застанет ли он Екатерину Сергеевну в живых
Когда он приехал, оказалось, что она жива, но ее состояние почти безнадежно. Как врач, он хорошо это понимал. Она почти не выходила из забытья, бредила временами, была страшно слаба.
Когда Екатерина Сергеевна приходила в себя, она сознательно и спокойно, безо всякой тревоги говорила, что умрет, и радовалась только, что умрет при Александре Порфирьевиче и у него на руках. А он не хотел верить в то, что все уже кончено, и упорно боролся за ее жизнь, как боролся и раньше — столько лет' .
В эти ночи, когда он то и дело поправлял ее подушки, поддерживал ее голову, пересаживал ее с кровати на кресло, давал лекарство, считал пульс,— все его помыслы были об одном: только бы она выжила! Забылось все трудное, что было между ними когда-либо. Осталась одна бесконечная жалость.
Состояние больной делалось все хуже. Пульс еле прощупывался, речь становилась невнятной, сознание терялось.
Самой тяжелой была последняя из этих ночей, когда не оставалось уже никакой надежды.
Но к утру Екатерине Сергеевне стало неожиданно лучше. Она очнулась и приободрилась, хотя была очень слаба.
Та, которая только что была умирающей, шутливо называла себя «новорожденной». Она и в самом деле словно родилась во второй раз.
Александр Порфирьевич сразу же поспешил написать письмо домой своей воспитаннице Лене Гусевой, чтобы утешить ее и «всех тех, кому дорога Катя». Он просил Лену приехать поскорее.
«Захвати с собой,— писал он,— моего Игоря, которого береги, как самого Роднушу».
Роднуша — это он сам, так его называла Лена, которая любила его, как любили все, кто с ним соприкасался.
Александр Порфирьевич снова вспомнил о своем «Игоре», едва только появилась надежда, что можно будет жить, дышать, работать.
Болезнь жены не могла не напомнить ему о краткости жизни, о том, что пора кончать то, что начато.
Но трудно было ему работать! Екатерина Сергеевна по-прежнему нуждалась в его неусыпных заботах. Она не могла ни ходить, ни лежать и спала, сидя в кресле. Ее выздоровление казалось только отсрочкой. Он боялся, что она долго не проживет.
Из Раменского, куда они переселились на дачу, Александру Порфирьевичу приходилось часто ездить в Москву к теще, которая тоже очень тяжело болела. Никого из близких около нее не было, и заботы о ней легли на плечи Александра Пор-фирьевича.
«Понятно,— писал он Шестаковой,— что при таких условиях мудрено писать оперу или вообще музыку».
В том же письме он просил Людмилу Ивановну внести от его имена деньги на венок «дорогому нам всем Листу». Неумолимое время унесло и этого друга вслед за Мусоргским и Зининым.
Три раза в своей жизни бывал Бородин у Листа. И каждый раз эти встречи были для них обоих праздником.
«Нам нужно вас, русских,— говорил ему Лист.— Вы мне нужны, я без вас не могу — без вас, русских. У вас живая жизненная струя, у вас будущность, а здесь кругом большей частью мертвечина».
Листу посвятил Бородин свою «Среднюю Азию» — своих «Верблюдов», которыми тот так восхищался.
Когда Бородин был последний раз в Веймаре, он не застал Листа дома и оставил у него свою карточку. Найдя эту карточку, Лист пришел в большое волнение и немедленно велел одному юному пианисту обойти все отели, найти Бородина и притащить его. Старик не мог и нескольких часов подождать, пока приезжий объявится сам.
Все это не могло не вспомниться Бородину, когда он в Ра-менском получил известие о смерти Листа.
Сентябрь в тот год выдался ясный, солнечный. Екатерина Сергеевна уже бродила по саду с палочкой в руках. Александр Порфирьевич много времени проводил за роялем, импровизировал. С «Игорем» спорила Третья симфония, которая была задумана уже давно. Основная тема первой части звучала печально. Это был след всего тяжелого, что пришлось пережить.
В этом же месяце умерла мать Екатерины Сергеевны. Грустно было им приходить в опустевшую квартирку, где жила Екатерина Алексеевна. Но их тянуло туда, как «на могилку».
Пора было думать о возвращении в Петербург. Ведь жизнь настойчиво требовала своего,— в академии начались занятия.
С неспокойным сердцем расставался Александр Порфирьевич с женой. Он не раз оставлял ее в Москве на осень, но сейчас все было по-другому: она еле бродила, да и матери не было с ней рядом.
В Петербурге Александр Порфирьевич сразу же с головой ушел в работу. Снова он писал Екатерине Сергеевне, что «кипит, как в огне», что у него «бездна» разных дел, требующих немедленного выполнения.
«Машина» пошла, как всегда, полным ходом.
Но сам-то Бородин уже был не тот. Он, считавший себя здоровяком, стал жаловаться на боли в сердце. Дианин выслушал его — и пришел в ужас: состояние сердца было угрожающее. Другие врачи — друзья Александра Порфирьевича — тоже выслушали его и пришли к такому же выводу.
Они стали настаивать на том, чтобы он бросил на время всякую работу и взялся за лечение. Но он и слушать не хотел таких советов. Перейти даже временно на положение инвалида,— на это он не мог согласиться. Это значило бы перестать жить,— ведь жить для него значило работать.
Врачи не решились откровенно сказать больному, насколько серьезно его состояние, и он продолжал себя вести по-прежнему.
Он писал жене успокоительные письма: «Летом я порядком поиспортился здоровьем от всех треволнений, но теперь опять вошел в свою колею».
А колея эта была такая, что она и здорового человека быстро расшатала бы.
Александр Порфирьевич писал жене:
«Утопаю в кипах исписанной бумаги разных комиссий, тону в чернилах, которые обильно извожу на всякие отчеты, отношения, донесения, рапорты, мнения, заключения — ничего путного не заключающие. Господи! Когда же конец этому будет!
Спешу строчить доклад и прекращаю письмо...»
«Я в настоящее время буквально завален работой — и работой спешной, потому тороплюсь ликвидировать и сдать дела по комиссиям. Это неприятная работа, скучная, надоевшая донельзя, с которой смерть скучно возиться».
Мало осталось у Бородина времени для того, чтобы осуществить свои самые дорогие, заветные замыслы. Но и это время у него безжалостно отнимала та «царская служба», о которой он говорил: «Служил 30 лет и выслужил 30 реп».
Всю жизнь он вел борьбу с «безумным», по его выражению, бегом времени, чтобы успеть отдать людям все сокровища своей мысли, своего таланта.
Но это была борьба не просто с временем, а с тем временем, в которое ему привелось жить. Ведь нет отвлеченного астрономического времени. Всякое реально существующее время — не только астрономическое, но и историческое. У каждого года, десятилетия, века — свои особенности.
За те же «астрономические» годы Бородин успел бы несравненно больше, если бы не «царская служба», если бы его берегли и ценили, если бы на его пути не воздвигали всяческих преград. Достаточно вспомнить, как много здоровья стоила ему гибель курсов, когда ему пришлось ломать им же созданную лабораторию!
Есть у шахматистов выражение «цейтнот». Это значит, что время игры истекает и надо торопиться доигрывать партию.
В таком «цейтноте» оказался и Бородин. Он радовался, когда успевал в перерыве между лекцией и обедом дописать еще один кусочек, «малую толику «Игоря». А работы над оперой было еще много. Эту работу невозможно было затиснуть в такие «щелки».
Беляев и друзья торопили его. Стасов сердился на «апатию», которая, как ему казалось, овладевала иногда Бородиным. Но это была не апатия, а болезнь. Во время разговора или слушания музыки он вдруг начинал дремать, чего с ним никогда раньше не было.
Апатия, равнодушие к жизни были не в натуре Бородина.
Износилось сердце, но дух был по-прежнему силен.
Бородин, как и раньше, любил жизнь, любил людей и старался, чтобы вокруг него всем было хорошо и весело. Один из его знакомых, М. М. Курбанов, рассказывает:
«Во время вечерних бесед Бородин, несмотря на усталость от лекций и разных комиссий, был незаменимый и очаровательный собеседник, очень интересно высказывавший обычно массу оригинальных и остроумных мыслей и непрерывно смешивший своих собеседников. Другой на его месте, при жизни, лишенной комфорта и ухода, при массе занятий и забот, не только не мог бы шутить и каламбурить, но просто, вероятно, никуда бы не годился, будучи совершенно за день истомленным. И А. П. я часто видел непомерно уставшим, но, несмотря на это, ввиду своего удивительного характера и воспитанности, он умел эту усталость скрывать перед другими, что обходилось ему, должно быть, не дешево...»
С темой «бега времени» не только в музыке, но и в душе Бородина спорила тема любви к жизни.
Лучшим отдыхом для него было играть с детьми В Н. Римский-Корсаков рассказывал, чго, придя к ним, Александр Порфирьевич брал детей за руки, кружился с ними и заставлял их петь хором на разные лады:
Динь дин! Бородин! |
Его умиляло и поражало то, что маленький пятилетний Боря Дианин уже сам разбирает аккорды, мажоры, миноры, наигрывает «Матушку-голубушку», марш Шопена, «Парафразы»
Но Бородин не был просто добрым дедушкой, для которого последнее и единственное утешение — внуки. Он сам еще торопился жить. Ему столько надо было успеть!..