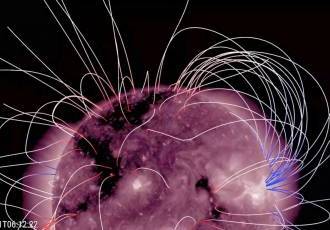Мысль о грядущей свободе воодушевляла лучших из современников и соотечественников Бородина. Все они чувствовали тяжесть оков, все они верили в то, что «час ударит про-бужденья».
Вот что пишет о симфониях Бородина академик Б. В. Асафьев: «Они — детище общественного подъема шестидесятых годов и вызванного ими обновления всех сторон русской жизни... Они воспевают те силы, могучие и здоровые, которые таились в народе, в массах и должны были проснуться».
Безбрежные просторы земли, хранящие в себе еще нетронутые богатства, и богатырская мощь народа, еще скованная, но рвущаяся к свободе,— вот что нашло свое выражение в Первой симфонии, вот о чем говорит раскачивание, разбег в ее начале и огненный стремительный порыв вперед в конце.
Симфония как бы хочет сказать: нелегко раскачать Россию, нелегко разбить ее оковы, но каким неудержимым станет ее движение вперед, когда оковы будут разбиты. И в этом и в других произведениях Бородина отразилась та воля к действию, к делу, к борьбе, которая охватила в те годы передовых русских людей.
Ощущение общественного подъема совпадало тут с подъемом, который Бородин переживал в личной жизни.
Ведь это было для него переломное время, когда он впервые понял, что композиторство — его призвание, и стал в ряды воителей за новую русскую музыку.
Личное и общественное трудно разделить, когда говоришь о таких людях, как Бородин. Он никогда не замыкался в свою скорлупу, он жил общей жизнью со всеми передовыми людьми своей эпохи, со всем своим народом. Вот отчего в его произведениях самая задушевная лирика сочетается с могучим эпосом,— выражая себя, он выражает народ.
Симфония начинается медленным вступлением. Печально звучит основная тема, исполняемая фаготами, виолончелями и контрабасами.
Но в этой печали нет безнадежности. Как русская песня, музыка Бородина дышит не унынием, а богатырской силой.
Бесконечная ширь родных лесов и полей, бесконечная даль истории русского народа наводит на раздумье, но в этом раздумье не оплакиванье нищей, убогой России, а предчув ствие ее великих судеб.
Вера в жизнь, в будущее народа и в свои собственные силы проявляется в неожиданном переходе от медленного темпа к быстрому, от минорной к мажорной тональности. Это бодрый призыв к действию, к выступлению в поход. Недаром композитор вызывает здесь литавры на помощь деревянным инструментам.
Неподвижность, скованность сменились быстрым движением. Звучность все нарастает. Все новые полки идут на подмогу. И вот уже вся армия — струнные, деревянные, медные, ударные — вступает в бой, повинуясь воле композитора.
Мощно звучит главная тема первой части. Это та же тема, что и во вступлении, но она преобразилась, стала бодрой и энергичной. Печаль и страдание переплавились в волю к борьбе.
И вдруг словно заговорила где-то пастушья свирель, девушки поют хороводную песню. Это мысль о народе, который в самом себе найдет силу для освобождения, это народные напевы, в которых композитор ищет опору для своего творчества.
И снова бодро звучит все тот же призыв к действию.
Отзвучала первая часть, затихают голоса скрипок.
Начинается скерцо — стремительный полет фантазии, окрыляющая мечта о будущем
На этом фоне ярко вырисовывается картина народного праздника. Звучат свирелью гобои и флейты. Мы словно видим юношей и девушек, ведущих хоровод.
И опять стремительный, настойчивый натиск: вперед! вперед!
В третьей части — в анданте — из тишины, из дальних просторов выходит протяжная песня виолончели. В мечтательном раздумье мысль композитора обратилась снова к прошлому, но уже издалека — из прекрасного будущего.
И вдруг налетает стремительный, порывистый поток звуков. Все быстрее мчатся по струнам смычки. Прихотливая восточная сказка ворвалась в мечтательное раздумье.
Тема Востока близка душе Бородина. Ведь он ведет свой род не только от русских, но и от татар, от грузин. Он с детства знает об этом от отца и, должно быть, помнит его рассказы о предках.
Но не в этом одном причина глубокого интереса Бородина к Востоку. Он ищет в восточных напевах и ритмах новые, еще не освоенные музыкой сокровища. Он знает: его страна — это океан, в который, как реки, вливаются разные народы.
Быстрая, прихотливая восточная сказка снова сменяется раздумьем. И опять уходят вдаль, в тишину звуки виолон-челий.
Бодрым, веселым маршем начинается финал. Богатырский размах слышится в могучем хоре всех групп оркестра — смычковой, духовой, ударной. Тут словно звучат и высокие, женские голоса, и низкие, мужские. Величественно и торжественно гремит апофеоз, исполняемый фортиссимо — с очень большой силой — всем оркестром.
Такова эта вещь, полная света, энергии, радости. Только один Бетховен умел так гениально выражать чувства, надежды, волю народных масс.
Когда мы слушаем Бетховена, перед нами возникают громадные массовые сцены: толпы парижан, берущих Бастилию, ряды марсельских рабочих, идущих с песней в бой под грохот орудий.
А Бородин воплощал в звуках чувства и мечты своих современников, своих соотечественников.
Чтобы создать такую симфонию, ему нужно было приникнуть ухом к русской земле, услышать ее протяжные хоровые песни, где каждый голос поет по-своему и все-таки песня остается единой.
Исследователь неизвестных земель, Бородин смело берется за изучение и освоение просторов, которые еще не были освоены музыкой.
Он и здесь такой же новатор, как и в своей науке.
Но если наука имела на него все права, то с музыкой дело обстояло не так. Ей он мог отдавать только часы досуга.
Правда, музыка не оставляла его и тогда, когда, стоя за лабораторным столом, он фильтровал, перегонял, выпаривал. Даже по дороге из лаборатории в квартиру он что-то напевал, идя по коридору. Постороннему уху могли бы показаться дикими эти септимы и ноны, эти скачки на седьмую и девятую ступень, с одного звука на другой, а он словно играл своим чудесным музыкальным слухом. Не раз он давал жене обещание не петь и не свистать в коридоре, но обещание это исполнял разве только тогда, когда некому было его унимать. Он писал ей, когда она уехала к матери в Москву: «Без тебя здесь ужасно пусто и тихо, как-то не кричится, не поется, не гамится».
Бородин сочинял не только с карандашом в руках и с нотной бумагой на конторке. Он был прирожденным импровизатором. Его произведения складывались у него под пальцами и в голове задолго до того, как он их записывал. Даже оркестр и тот умел слышать в воображении. Писать партитуру было для него «механическим трудом», если произведение было уже записано им для клавира.
У него могли быть времена, когда он больше увлекался химией, чем музыкой, или наоборот. У него бывали, по его собственному выражению, «недели музыкальные» и «недели химикальные», когда он находился «в пассии лабораторных работ».
Но не было дня, чтобы композитор переставал быть ученым или ученый переставал быть композитором. Нельзя механически делить Бородина на химика и музыканта.
Этот цельный человек оставался исследователем и мыслителем, когда за роялем «строго логично» и «изобретательно» (по словам Листа) строил свою симфонию. И он оставался композитором, когда за лабораторным столом его руки собирали какой-нибудь сложный прибор или перегоняли газ из сосуда в сосуд, а в голове строились в группы и менялись местами не только атомы, но и новые, необычные сочетания из звуков и мелодий.