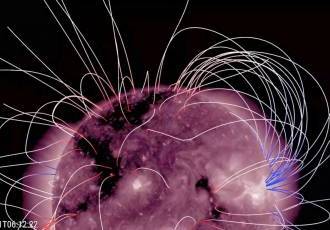Шестерка лошадей, натягивая до отказа постромки, тащит в гору тяжелую почтовую карету. Длинный кнут ямщика гуляет без всякой пощады по взмокшим спинам двух передних лошадей. Но и четырем задним тоже достается положенный им паек. Тут все предусмотрено: длинный кнут откладывается в сторону, и ему на смену появляется кнут покороче. А кнутам еще помогает гиканье ямщика, которое, впрочем, больше беспокоит дремлющих пассажиров, чем давно привыкших к нему лошадей.
Не легкое дело трястись день и ночь в громоздкой колымаге, в особенности когда сидишь не внутри, а «вне почтового экипажа», как сказано в проездном билете. Ноги затекают, бока болят от толчков. Холодный ветер продувает насквозь, не обращая внимания на кожаную занавесочку, которой полагается ограждать от стихий пассажиров, сидящих на наружных местах.
«Одно неудобство наружного места: сидеть тесно,— писал Бородин матери с дороги.— Если бы мой сосед был бы немного потолще, то не знаю, как бы мы уместились на такой узенькой скамеечке. Другое неудобство заключается в том, что возле, за тоненькой перегородкой, сидит кондуктор, который немилосердно трубит над самым ухом и вдобавок трубит крайне фальшиво. Ночь была лунная, и я смотрел с удовольствием, как мы проезжали мимо триумфальных ворот по Петергофской дороге; проехали Стрельну, Петергоф. Кондуктор в скором времени угомонился и не трубил больше... Мне не спалось, я глядел чрез маленькое овальное окошечко, сделанное в кожаной занавеске, на пустые поля, мелкие сосны и березняк, слушал гиканье ямщика, топот лошадей и мелодическое сопение моего соседа, спавшего крепким сном».
С каждым часом все дальше уходил назад родной дом. Впереди была новая глава жизни; чужие края, чужие люди.
Почтовая карета должна была доставить Бородина до Таурогена, на прусской границе. А дальше путь лежал через всю Германию — в герцогство Баденское, в маленький городок Гейдельберг.
Это была вторая его поездка за границу. Первый раз он отправился туда на Международный конгресс офтальмологов в качестве ассистента профессора-окулиста И. И. Кабата. Быстро пролетели тогда несколько недель в Париже и Брюсселе. Бородин и там интересовался химией больше, чем медициной. Ему не удалось повидаться с известным химиком Бер-тело, с которым он хотел поговорить, но он успел осмотреть его лабораторию.
Чего же ради отправился Бородин теперь в чужие края?
Гейдельберг был знаменит своим старинным университетом, где преподавали прославленные на весь мир ученые Бун-зен и Кирхгоф. Из разных стран съезжались туда молодые химики, чтобы послушать лекции этих ученых, поработать под их руководством.
Но Бородину незачем было искать себе новых руководителей. Ведь имя его наставника Николая Николаевича Зинина звучало не менее громко, чем имена самых знаменитых иноземных ученых. Были в Петербурге и другие замечательные химики. Достаточно назвать хотя бы такого ученого, как Александр Абрамович Воскресенский, профессор Петербургского педагогического института. Он уже вырастил немало талантливых химиков. Его учениками были Менделеев, Бекетов, Меншуткин.
Чего же не хватало в Петербурге молодым ученым?
Прежде всего не хватало средств и времени для научной работы, а заграничная командировка давала им и то и другое.
К тому же в Петербурге тогда еще мало было хорошо оборудованных лабораторий и нелегко было иной раз достать самые необходимые реактивы и приборы.
Россия была страной передовой химии и отсталой химической промышленности.
Мудрено ли, что молодые русские химики радовались возможности поработать в хорошо оборудованной лаборатории, даже если она была за тридевять земель от их родного города?
Правда, можно было надеяться, что и в России в скором времени станет легче заниматься химией. Бородин уезжал в заграничную командировку с надеждой на то, что к его возвращению будет уже построен новый естественноисториче-ский институт. Перед его отъездом Зинин поручил ему купить в Германии кое-какие приборы для этого института, посетить лучшие лаборатории, побывать на химических заводах и на рудниках.
Давая этот наказ доктору медицины Бородину, Зинин думал не только об интересах врачебной науки. Он хотел, чтобы его ученик и преемник посмотрел за границей все, что может быть полезно для русской химии и русской промышленности...
Почтовая карета продолжала катиться по дорогам, то с горы, то в гору, переправляться на паромах через реки, останавливаться на станционных дворах, где ямщики запрягали свежих лошадей, а пассажиры раскрывали свои походные погребцы и подкреплялись закуской и горячим чаем.
На одной из станций — в Дерпте — появился новый пассажир. Сначала Бородин принял его за дерптского студиозуса, но он оказался русским.
«Это был,— писал Бородин,— некто Борщов, бывший товарищ Коли Щиглева по лицею; он ехал за границу с целью серьезно заниматься естественными науками. Борщов, с которым я потом познакомился короче, оказался очень симпатичным юношей, умным, толковым и многосторонне образованным*. Он уже специально занимался ботаникою (напечатал несколько работ) и геогнозиею, провел два года в киргизских степях с Северцевым около Аральского моря и т. д. Кроме того, он оказался очень хорошим музыкантом, с «нашим» направлением в музыке. Я очень обрадовался этой встрече».
Когда встречаются два молодых человека, увлекающихся музыкой, поэзией, живописью, у них чуть ли не с первых же слов начинаются расспросы: «А кого из композиторов, поэтов, художников вы больше всего любите?» Без этого и знакомство не знакомство. А знакомство быстро переходит в дружбу, если вкусы и направления совпадают.
Для Бородина таким решающим вопросом было: любит ли его новый знакомый Глинку? Это он и считал «нашим» направлением в музыке. И он рад был услышать, что Борщов — рьяный поклонник Глинки и знает оперы его наизусть от доски до доски.
Глинка, так же как Пушкин, как Белинский, был знаменем передовой молодежи. Недаром его не любили реакционеры.
Писатель пятидесятых — шестидесятых годов П. М. Ковалевский рассказывает, что великий князь Михаил Павлович — грубый и невежественный солдафон — наказывал офицеров за провинности тем, что посылал их не на гауптвахту, а в Большой театр послушать «Руслана и Людмилу».
А для передовой молодежи «Руслан» был символом веры.
В Кенигсберге путники распростились наконец с надоевшей им почтовой каретой, от которой у них давно уже болели бока. Дальше они поехали по железной дороге.
В Берлин прибыли рано утром. Бородин с трудом дождался открытия магазинов. В этот день у Гофмана и Эбергардта он был одним из первых покупателей.
Он приобрел для лаборатории академии воздушный насос и сразу же распорядился отправить его Зинину.
Вечером Бородин и Борщов были уже снова в пути. Когда на следующее утро пассажиры, ехавшие в поезде, проснулись и выглянули в окна вагонов, они увидели, что пейзаж переменился. За окнами вместо однообразной равнины поднимались невысокие округлые горы, покрытые виноградниками. Кое-где на вершинах гор виднелись одетые плющом развалины замков. Внизу в долинах алели черепичные крыши и остроконечные башни маленьких, словно игрушечных, городков. В раскрытые окна врывался ароматный, совсем летний ветер. А ведь когда Бородин уезжал из Петербурга, уже давал себя знать мороз.
Один из этих маленьких городков оказался Гейдельбергом. Приветливо встретили приезжих чистенькие, только что вымытые улицы. Поражало, что все ходят в летних пальто и что ограды увиты цветущими розами, хотя на дворе уже стоял ноябрь.
«Остановившись в Badischer Hof*,— писал Бородин,— мы как раз попали в отель, где обедают все наши русские, живущие в Гейдельберге. За табльдотом я увиделся с Менделеевым, Сеченовым и многими другими. После обеда мы отправились все к Менделееву; у него очень миленькая лаборатория, чистенькая и даже снабженная газом».
Менделеев пробовал сначала работать у Бунзена. «Папаша» Бунзен, как его все называли, был очень мил и любезен, но работать в его лаборатории оказалось совершенно невозможно.
— Известный вам Кариус,— рассказывал Менделеев друзьям-химикам,— так вонял своими сернистыми продуктами, что у меня голова и грудь заболели. Мне пришлось стоять около него. Потом я увидел, что ничего-то мне необходимого нет в этой лаборатории. Даже весы и те куда как плоховаты, а главное — нет чистого, покойного уголка, где можно было бы заниматься такими деликатными опытами, как капиллярные... Все интересы этой лаборатории, увы, самые школьные: масса работающих — начинающие...
Вот Менделеев и решил устроить все у себя дома. Одну комнату он превратил в лабораторию, в другой делал наблюдения.
Менделеев с гордостью показывал приборы, которые он купил в Париже. Он там совсем разорился, потратил больше тысячи рублей из тех денег, которые были ему отпущены на командировку. Но зато приобрел много хорошего. А в Гейдельберге ему почти ничего достать не удалось.
У себя дома он мог работать когда угодно и как угодно, ни от кого не завися. И в самом деле, не Менделееву было становиться за один лабораторный стол с учениками Бунзена, начинающими химиками.
Бородин и сам предполагал вначале поработать у Бунзена. Но разговор с Менделеевым заставил его призадуматься.
В тот же день вечером Бородин и Борщов решили, по русскому обычаю, отправиться в баню, чтобы помыться с дороги. Но так как они были не в России, а в Германии, то пошли они не в баню, а в ванное заведение. Заведение это удивило их своей универсальностью: здесь можно было и принять ванну, и купить туалетные принадлежности, и — что самое странное — тут же продавались ноты и музыкальные инструменты. На ловца, как говорят, и зверь бежит.
Пока в ванны наливалась вода, страстные любители музыки уселись, с разрешения хозяйки, за фортепьяно и сыграли в четыре руки наизусть увертюру из «Ивана Сусанина».
Перед тем как уйти домой, Бородин решился спросить хозяйку, не даст ли она ему напрокат фисгармонию. Хозяйка с удовольствием согласилась и назначила такую дешевую цену, что Бородин только ахнул: «Дешевле пареной репы!»
День этот был на редкость удачным: в чужом краю Бородин сразу же нашел земляков, да притом еще товарищей по науке, поговорил с Менделеевым о химических делах, поиграл в четыре руки с Борщовым и в довершение всего обзавелся музыкальным инструментом.
Так началась его заграничная жизнь.
Больше всего места в этой жизни занимала работа. Но сложилась она не так, как он думал, уезжая из Петербурга.
В лаборатории Гейдельбергского университета было так много народу, что у весов и печей выстраивались очереди. Приборы по большей части были недостаточно хороши для серьезной научной работы, требующей точности. Да к тому же еще в университете можно было работать только до пяти часов вечера. По субботам и воскресеньям занятий вовсе не было. А Бородин приехал сюда совсем не для того, чтобы отдыхать. Он и прежде не любил сидеть без дела, а теперь он только о том и думал, как бы с головой уйти в работу.
Кончилось тем, что он устроился в другой лаборатории, у молодого приват-доцента Эрленмейера. Там ему пришлось платить двойную цену, но зато у него была отдельная комната, в которой он мог работать совершенно независимо, в любое время дня и ночи. Из лаборатории его можно было выгнать только тогда, когда шла предпраздничная уборка, когда по комнатам принимались гулять мокрые тряпки, швабры и щетки.
Над чем же работал с таким увлечением Бородин?
В своем отчете о заграничной поездке он пишет, что решил «попробовать найти рациональный способ получения целого ряда новых кислот».
Для этого он наметил такой план: взять какую-нибудь существующую органическую кислоту, заместить в ней водород хлором или бромом, а потом хлор или бром, в свою очередь, заместить «углеводородным радикалом», то есть группой связанных между собой атомов углерода и водорода.
Таким способом он надеялся получить из известных кислот новые, неизвестные.
Осуществляя этот план, Бородин пробовал действовать парами брома на серебряные соли валериановой и масляной кислот.
Работать с бромом нелегко. Его красноватые, тяжелые пары вызывают кашель, вредно действуют на легкие. Приходится вести опыт под тягой, но и тяга не всегда спасает химика от вдыхания ядовитых паров.
Эта вредная для здоровья работа была выполнена Бородиным не напрасно: ему удалось получить из масляной и валериановой кислот новые интересные соединения.
Сообщение об этой работе появилось скоро в Бюллетене Парижского химического общества.
Но Бородин не сразу разобрался в природе соединений, которые оказались у него в руках. В те времена еще не были известны вещества, которые получаются из органических кислот при замещении водорода бромом и хлором.
Через много лет, рассказывая о Бородине в статье для энциклопедического словаря, его ученик М. Ю. Гольдштейн написал: «Как только Бородин начал разбираться в этом вопросе, появилась подробная работа Шютценбергера о подобных же соединениях хлорноватистой кислоты, вследствие чего Бородин оставил свою работу, предоставив дальнейшее исследование этого вопроса Шютценбергеру».
Так с тех пор и стали считать эти соединения «ангидридами Шютценбергера», хотя их правильнее было бы называть ангидридами Бородина.
Но это было только одно из открытий, сделанных Бородиным на пути к неизвестным кислотам.
Чтобы найти способ вводить в молекулу новые группы атомов, он взял себе на помощь реактив с необыкновенными свойствами — цинкэтил.
Несведущему человеку цинкэтил показался бы волшебным эликсиром алхимиков. Если его вылить на стол, он воспламеняется и горит ярким пламенем, оставляя на столе налет окиси цинка.
Получали его сложным способом: нагревая исходный материал двенадцать часов подряд в запаянной стеклянной трубке. Чтобы трубку можно было нагревать безопасно, ее приходилось помещать в железный футляр: если ее разрывало, мелкие, как песок, осколки не разлетались по комнате, а оставались в футляре.
Чтобы не доводить дела до взрыва, нужно было искусно запаять трубку, выгнав из нее сначала воздух.
Большим мастером этого дела был Менделеев. Он гордился тем, что у него из десяти трубок разрывались только три.
Получив таким сложным способом цинкэтил, Бородин попробовал его нагревать, опять-таки в запаянной трубке, с этиловым эфиром бензойной кислоты. Произошла реакция, при которой образовался углеводород бутан.
Не прошло и нескольких лет, как эта реакция Бородина заняла свое место в учебниках органической химии.
Он не достиг на этот раз намеченной цели: ему не удалось получить то, что он искал,— новые, еще неизвестные кислоты. Но можно ли было это считать неудачей? Ведь по пути он сделал два интересных открытия.